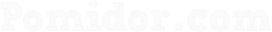Написать автору
За последние 10 дней эту публикацию прочитали
| 04.02.2026 | 15 чел. |
| 03.02.2026 | 41 чел. |
| 02.02.2026 | 52 чел. |
| 01.02.2026 | 40 чел. |
| 31.01.2026 | 46 чел. |
| 30.01.2026 | 58 чел. |
| 29.01.2026 | 22 чел. |
| 28.01.2026 | 5 чел. |
| 27.01.2026 | 5 чел. |
| 26.01.2026 | 3 чел. |
Привлечь внимание читателей
Добавить в список "Рекомендуем прочитать".
Добавить в список "Рекомендуем прочитать".
Запись-ком послания от Сашка (Часть первая)
Студент-практикант архива, вышел срок хранения, не дал ходу утилизации
Часть первая
Ожидая к подъезду машину, Василий Иванович Паранин курит у окна. Мужчина он статный, с виду пожилой — лет эдак под семьдесят. С густо пробившейся сединой в без того светлых, белых даже, волосах и бороде. На лицо — кожа светлая, если не сказать бледная, в морщинах мелких частых — примечателен двумя щёточками бровей, занимавших только ровно половину надбровной дуги у переносицы, полностью белёсые. Человеком-альбиносом он не был, выработка организмом меламина в норме, но в школьные годы за свою яркую белобрысость получил прозвище Альби, так прозывали, и в армии, и в вузе, звали родственники, коллеги на работе. На этой почве, в отрочестве уже, развилась фобия: не загорал, не снимал чёрных очков, носил однотонные свободного кроя блузы навыпуск — с «полными» рукавами даже в летнюю жару. Не снимал (волосы, густые, прямые, зачёсаны за уши, ниспадают до плеч) кепок и шляп, а последние десяток лет не расставался с беретом, явно из былого синего «вэдэвэшного» перекрашенного в цвет чёрный. Уже этот только нетривиальный облик — берет, да блуза с синего цвета бантом на груди, который поцеплял нечасто, но непременно за работой у мольберта — выдавали в нём человека, связанного с художественным творчеством. И на самом деле Паранин слыл известным и востребованным реставратором церковных стеновых росписей, мозаик. С признанием в профессии больше не жаловал прозвище Альби, всем запрещал, кроме коллег-сверстников.
Василий Иванович курит и перекладывает на подоконнике рулонную ленту бумаги игольчатого принтера. Вечером заселился в квартиру, в кабинетке — отремонтированной, пустой без мебели — обнаружил за оконной занавеской.
Сойдя с поезда на своей станции, добравшись до бывшего военного городка с четырёхэтажными домами, поднялся на последний этаж одного помеченного цифрой «8», открыл ключом квартиру «32», в какой провёл пять лет детской жизни. Готов был немедля завалиться и проспаться, наконец, после шести беспокойных суток в вагоне. На завтра планировал съездить за родителями, сошедшими остановкой раньше, где встретила стариков мамина сестра.
Переоделся в пижаму из чемодана, но прежде как улечься на матрас разосланный по паркету, захотелось покурить. Открывал форточку, в глаза бросились написанные красным плакаром поперёк распечатанного на ленте текста слова: «Помнишь Сойку?».
Защемило в сердце, ноги стали ватными…
…Прикуривая от «бычка» очередную сигарету, Паранин думает, как теперь распорядиться завтрашним днём. Предстояло съездить в Новополоцк забрать родителей, а до этого проехать дальше в Полоцк к иконописцу Спасо-Ефросиньевского монастыря. За неделю до поездки в Беларусь в скайп постучал молодой человек. Представился и напомнил о присутствии на его защите диплома в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете, о приглашении перебраться работать по специальности в Хабаровск. Попросил, как приедет в Беларусь, наведаться к нему в мастерскую в Полоцке. Признался, что помимо работы штатным иконописцем в монастыре, подрабатывает на фрилансе, и просит оказать услугу: предоставить возможность снять 3D-сканером геометрию уха «уважаемого Василия Ивановича», с тем, чтобы 3D-модель поместить в «Атлас Анатомии Человека с Дополненной Реальностью». Заказчик подчёркнуто наказал: «…и в обязательном порядке ухо Альби, оно у Паранина Василия Ивановича безупречной формы. Отрисуйте левое, у правого мочка обезображена, прокушена». Намекнул, что заказчик женщина. Паранин сразу понял кто — в школе одноклассница, наградившая его прозвищем, в вузе сокурсница, любовь по молодости. Отказал взять в жёны, теперь вот и в старости изгалялась, если не сказать, что мстила. Двоюродной сестре Наташе, она очень нравилась, всячески способствовала их женитьбе. У Паранина на этой почве случился с ней разлад, вяло текущий по сей день — потому, наверное, с тёткой Лидой встретить его и стариков на станцию не явилась.
Распланированный на завтра день теперь вот коту под хвост. Так, до боли в груди, захотелось побывать в деревне, где жила бабушка Марфа, и он малышом гостил весной и летом до переезда на Дальний Восток России, на место воинской службы отца и отстраивавшегося Хабаровска. Несмотря на позднее время, созвонился с начальником местного домоуправления, попросил оказать помощь, выделить машину — ни пешком, ни на велосипеде не добраться: весенняя распутица.
…Сон как рукой сняло. Паранин дымит в форточку и в трепетном волнении перечитывает распечатку. Раз за разом…
_____________________
Речку Сойку ты, конечно же, должен помнить, не совсем ведь малышом уехал в Хабаровск. Протекала в каких-то трёхстах метрах от бабушкиной хаты. В жаркое лето обмелевшая, струилась по дну из каменьев под бревенчатым мостом. Перейти на другой берег у подножия холма, чтобы поесть и набрать ягод в малиннике, тебе до пяти лет было запрещено. А подняться по тропке на вершину к развалинам сыроварни, где малинника прорва, ты и подросшим не устремлялся, на пути в лес за орехами просил маму обойти стороной. С двух ещё лет, как пошёл и самостоятельно во дворе гулял, бабушка пугала тем, что подвалах сыроварни, в норах, водится Змей Горыныч, крылатый, и «аж аб трох галовах». Ты этому верил. К речке, уже в три с небольшим годика, тишком от бабушки ходил, но только с гурьбой детворы. В первые погожие деньки после весеннего разлива, в поймах по берегу мутили ногами воду, и руками, осторожно подводя пригоршню, выбрасывали на землю малых щучек. На дороге перед мостом играли в салки и в лапту.
Голубицы — деревня небольшая, и двух десятков дворов не набиралось. В оккупацию до 1924 года на польских военных картах значилась как Wieś Biała — в переводе на русский Сельцо-Белое — потому как примыкала к большому с тремя сотнями дворов селу Белое. Но во все времена называли по-старинному — Голубицами. Потому как в мае дома утопали в зарослях голубой сирени, но больше потому, что за околицей по берегу обширного болота, преграждавшего короткий путь к соседнему селу Заболотье, всегда обильно росла крупная голубика. Детей к ней старались не допускать, но те когда родители были заняты в колхозе и по хозяйству на подворье, к болоту, конечно же, устремлялись поесть и собрать ягод. Был случай, трясина малыша чуть не затянула. Спас ребёнка дед Лухмей, неподалёку собиравший грибы. Родителям о происшествии не рассказал, но после тайком увязывался за детворой, следил за тем, чтобы близко к вадью не подходили. На ферме дед Лухмей не работал, фронтовик, контуженный и раненый не раз, в «болячках» весь, списанный от призыва подчистую, частенько впадал в запой, за что из колхоза исключён не был, но до работы бригадиршей — властная баба Авдотья всем заправляла в Голубицах — не допускался. Потому времени с детворой возиться у деда было предостаточно. Школьный учитель по образованию, до войны преподававший в Бельской восьмилетке, в Голубицах занимался незаконной трудовой деятельностью: в сговоре с колхозным бухгалтером (у того хранился ключ) в сельском клубе обучал дошколят белорусскому и русскому языкам, учил читать и писать. Родители, конечно же, о том знали и благоволили его затее — малыши заняты, под присмотром. Упрашивали Авдотью после очередного у старика запоя оставить членом коллективного хозяйства, и та начисляла «подпольному учителю» кое-какие трудодни. После занятий в клубе дед Лухмей с детьми шёл по голубику, бруснику и клюкву, грибы, орехи собирали. Зимой силки на зайца ставил — домашней живности не держал. Вечера, и ночи зачастую (спать не ложился, самогонки тяпнет и бередит свои «болячки») занимался своим с юности увлечением. За застольем бывало приставал к непосвящённым разгадать загадку: «Быў я на копцы, быў я на топцы, быў на скрыжалі, быў на пажары, на базары пастаяў — людзей карміць пачаў». А «зашифрован» в этой загадке процесс изготовления горшка («сагана»): копка глины, её вымешивание, придание изделию формы на гончарном круге, обжиг в печи, продажа на базаре. Гончаром дед Лухмей был известным, специализировался на изготовлении посуды для хранения и транспортирования продуктов — гладышы, збанкі, глякі, спарышы. От других мастеров окрест его отличала способность изделие обыденно функциональное «одухотворить» — украшал орнаментом, обычно звёздами «одуванчика» салюта Победы. На полоцком базаре сам не продавал, подряжал первую жену, от которой ушёл (детей не было) в конце тридцатых, променяв на молодку. На школьном педсовете пропесочили, но расстаться с единственным в школе педагогом-мужчиной, конечно же, не намеревались. Тогда ему шёл сорок седьмой год, а женился на девушке восемнадцати лет, «простушке рябой» по оценке бывшей супружницы. Она наведывалась в Голубцы привезти выручку за проданные «горшки», прибрать хату, постирать — в надежде сойтись. Но Лухмей оставался жить бобылём. Вторая жена умерла при родах накануне войны, а после свестись с первой, или с какой молодухой, или вдовой-солдаткой не помышлял даже. Пил горькую, выгонял лучшую в округе самогонку, а уж бражку в кадке настоять был непревзойдённым мастером. Из колхоза Лухмея после затяжного его запоя не раз и не два исключили на собрании по предложению Авдотьи, но всякий раз сельчане отстаивали деда.
* * *
Колхозная усадьба размещалась в Белом, по окрестным малым деревням работали отдельные комплексные бригады, Голубицы занимала молочная ферма, здесь трудилась бригада доярок — старухи, бабы пожилые, вдовы, молодки. Мужики (с войны, кроме Лухмея, двое только вернулись, но вскорости померли от ранений и контузий) — старики, молодёжь с подростками занимались обслуживанием хозяйства: покосом, заготовкой кормов, закладкой силосных ям.
В 1931-вом году в деревне отстроили четыре бревенчатых коровника. На холме у речки Сойки в тридцать девятом поставили сыроварню, одну их первых в Белоруссии, и построенную немцами с применением кирпича от барской усадьбы, а так же завозного из Германии. Заведовать коровниками и сыроварней назначили Авдота, мужа бригадирши молочной фермы Авдотьи. Имя её на самом деле не такое, в младенчестве нарекли Марийкой, но называть просила Авдотьей — именем созвучным с фамилией супруга Авдоття. Вообще-то правильным написанием было Авдотья: род шёл от купеческих семей, проживавших на территории российского города Сыктывкар с третьего десятилетия XIX века. В перепись населения 1897 года его родителям фамилию Авдотья переиначили по чей-то оплошности в Авдоття. Так и осталось, не выправляли.
Чета Авдоття — пришлые, в Голубицах обосновались с постройкой сыроварни. А до этого по рассказу Авдотьи, её и Авдота, молодых бездомных супругов с малолетней дочерью, подданных Болгарии, эмигрантов, каким-то ветром занесло в белорусский Полоцк, где подобрал и приютил городской мельник. В наследство он им и оставил мельницу в Белом. Авдота, в Болгарии получившего образование ветеринара, по предложению председателя Бельского колхоза назначили заведующим фермой и директором сыроварни. Авдот, покидал красноармейский пехотный полк Белое, взорвал с сапёрами заводик. Заряд подложили и под дойно-разливочный участок одного из коровников, на все остальные толовых шашек не хватило. Авдот как узнал про то, наказал Авдотье собрать доярок на ферме и противиться, насколько можно, расстрелу коров. Сбежались, не давали солдатам взвести затвор винтовки, но сержант, командир отделения, пригрозил расстрелом на месте. Дали два только залпа — без патронов оставаться у комотделения резона не было. Заведующий наказал тащить туши в «холодный закут», где и разделать на мясо. С десяток успели освежевать, запаслись мясом; спасло в неурожайный сорок первый год, с приходом в Белое немцев и в постой в Голубицах полицаев.
Наверняка не знаешь — если не сообщила Натаха; знаю о твоём с ней разладе — чета Авдоттей вовсе не были беженцами из Болгарии, в Белоруссию засланы Абвером с задачей обосноваться в Полоцке или где в окрестной деревне, проводить разведывательную работу и ждать поступления приказа на осуществление диверсий. О том мне Натаха письмом прислала заметку в районной газете. Что-то пошло не так, толи очередь не дошла, толи и вовсе про супругов в Абвере забыли: с началом вторжения Вермахта в СССР в диверсионных операциях так и не задействовали. Авдот — на московском радио было новостное сообщение — якобы погиб под Смоленском: выводил из окружения беженцев с разбомблённого на Москву эшелона. Авдотья отработала в Голубицах заведующей молочного комплекса, вместо четырёх обветшавших бревенчатых коровников три добротных кирпичных отстроила, не единожды была отмечена правительственными наградами. Я реставрировал изразцы комнатной печи у бывшего генерала КГБ, пенсионер, узнав, что я родом из-под Полоцка, земляк ему, под рюмку проболтался: в шестидесятые учавствовал в расследовании дела Авдота Авдоття, обвиняемого в измене родине, пособничестве фашистам. Заверил меня в том, что не простым предателем и диверсантом, хоть во все военные годы так и не «проснувшимся», оказался этот венгр. Об том ниже.
* * *
От полицаев твоя бабушка Марфа с семейством пряталась на заимке в бору за Забольтьем. В той самой, где до революции обитал лесничий Прохор, а в двадцатых и тридцатых за лесом смотрел лесник Прохор-младший — твой дед, которого в тридцать седьмом репрессировали и увезли куда-то в лагеря под Воркутой. За время оккупации, на заимке бабушка Марфа с дочерями Олей и Лидой подняли нас: меня Сашка и двоюродную мне сестру Натаху. Тебя тогда ещё и в проекте-то не было, мама твоя Оля совсем ещё девчонкой была. Помню, прикусывая лесными орехами, уплетала суп из крапивы и лебеды с грибами, только подливай. Старшая Лида накануне войны на выданье была, но выйти замуж не довелось: жених, секретарь комсомольской ячейки, в числе первых добровольцев ушёл на фронт. Его мать, Бельская повитуха, собирая сына в дорогу, заверила, что у Лиды от него родиться девочка. На Борковской станции у вагона жених прощался с невестой: «Дочь родится. Назови Наташенькой». В январе сорок второго родилась Натаха, твоя двоюродная сестра и моя племянница. Семейство наше, как могло, помогало партизанам: поставляло печной хлеб, козье молоко, огородную снедь и, особо жалуемую отрядными поварихами и санитарками, сныть-траву.
Ну, да ладно.
Напомню тебе случай в Голубицах. Ты третье лето гостил у бабушки. Мама Оля привезла и до осени уехала в Борки к мужу офицеру. Тебе тогда только-только четыре годика исполнилось, мог тот случай и позабыть. Он важен в контексте моего послания.
* * *
В четвёртый день рождения тебе в подарок мама оставила юлу, но запомнились те именины, должно быть, и по другому событию.
Шёл 1951-вый год. В хате бабушка Марфа, ты четырёхлетний карапуз, да твой дядька Сашок, двенадцатилетний мальчишка. Тем днём бушевала гроза, лил сильный дождь — носа во двор не казали. К вечеру распогодилось. Изредка небо пересекала молния, дождь не столько лил сколько «отряхивался». В проталины отражённые по воде луж — ветер разгонял тучи — время от времени заглядывала полная луна.
Только накануне начала нового после войны десятилетия удалось оставить заимку, вернуться в Голубицы и рядом с наполовину сгоревшей старой хатой (оставалась от предков-«дзядоў») начать возводить новую.
Пятистенок за лето возвели, четыре стены образовали прямоугольник, а пятая, поперечная с входными в избу дверьми из сеней, поделила дом на две половины. Стены в венцах сложили из толстых круглых брёвен. Нижний венец смайстровали из брёвен векового дуба, значительно толще остальных сосновых в срубе, «падваліной» уложили на фундамент из камней. С фасада, со стороны проходных по двору от калитки мостков, к срубу примыкает крыльцо с входом в сенцы.
Входные двери сделаны «тяжёлыми» (широкая дубовая доска), имели «клямку» и закрывались со стороны двора на простой дешёвый замок, ключик прятался на дверной раме или в рубленом окошке между брёвнами стены с боку. Окошко это в ненастную погоду прикрывалось заслонкой, а в хорошую способствовало вентиляции.
Крыльцо получилось высоким — о восьми ступенях. Стойки и перила дед Лухмей украсил резьбой. Оконные наличники отнёс к себе, но орнамента нарезать успел только для пяти из семи в хате окон — всё отлаживал работу, отнекивался, ссылаясь на свою занятость.
Знаешь, в белорусской избе «плясали» от печки. Ось ориентации в жилом помещении — диагональ «печь — красный угол». «Чырвоны кут» почитался почётным местом, здесь стоял стол, в углу висели иконы, на прилегающей стене перегородки, делящей избу на жилую половину и хозяйственную — забранные в рамки фотографии родни. За столом проходили семейные трапезы. «Стаіць сасна, на сасне лён, на льне жыта» — Дед Лухмей когда наведывался по-соседски, на пороге, скоротечно крестясь в угол, произносил эту народную загадку о трёх атрибутах красного угла: стол, скатерть и хлеб.
И должно быть помнишь, новую печь не сложили, из старой хаты перенесли, по кирпичику разобрав и собрав. Традиционно печка в интерьере занимала около четверти интерьерного пространства, она главный оберег дома, согревала, кормила, служила местом отдыха. К стенке под левую руку приставлена лавочка-«услон», на которой стояла дежка с закваской для выпечки хлеба. Бабушка всё боялась, что ты — она отвлечётся от «бабіного кута» — взберёшься по ней к печной заслонке, обожжёшься.
Перегородку, обрамлявшую боковую стену печи, собрали из досок и оклеили, пока не достали дешёвые, но добротные для деревни обои, старыми советскими газетами, вперемежку с немецкими оккупационными.
Пол вымощен досками, полностью только на жилой половине избы, на хозяйственной частично. Обходились пока двумя у печи мостницами от двери в сени к проходу в перегородке. Их и мостницы под столом с лавками под образами разделял промежуток с голыми лагами в яме — подполье для хранения картошки. Оно пока было без откидной крышки, её, как и оконные наличники, забрал к себе Лухмей с заявлением Бабушке: «Разьбой пад дыван упрыгожу. А каб брудам ня забівалася, палавік будзеш зверху класці». Но не украсил, вернул крышку — понял абсурдность затеи. Через яму подполья ходили по накидным на лаги доскам устеленными плетёными из лозы циновками.
Из окон остеклили пока одно, то, что в «красном углу» жилой половины избы справа от божницы, рамы остальных затянули рогожей; двухскатную крышу покрыли соломой на время заготовки дранок, а уже перенесли пожитки из старой избы, в которой прожили конец весны и лето как оставили заимку.
Ты, конечно же, не знаешь, бабушка нам с Натахой рассказала, под новую хату сосновые брёвна заготовил Прохор-младший, а стволы векового дуба Прохор-старший. Алею в барской усадьбе пилили на дрова, лесничий пять стволов увёз тишком. Хранили брёвна в лесном схроне на одном из островов болота. Кто-то настрочил донос, схрон не нашли, лесничего, твердившего одно: «Забыўся, які той востраў» осудили. Вряд ли Натаха тебе написала, в перестройку бабушка Марфа брёвна те продала — Лидиными стараниями. Летом, венцы ещё рубили, по зову матери погибшего в Кёнигсберге жениха, Лида увезла покрестить Натаху в Полоцк, там и остались присматривать за ослепшей от горя старухой. У повитухи научилась её ремеслу, отучилась в медучилище на акушерку и устроилась работать в Полоцкий роддом. Дочь-школьницу возила на другой конец города в изостудию. После Наташа отучилась в художественном училище в Минске и устроилась подмастерьем в реставрационную мастерскую при Полоцкой епархии. Так вот, как-то Лида выхаживала роженицу, сотрудницу музея художественных ремёсел, взяла и рассказала об увлечении Деда Лухмея керамикой, и та приехала к старику с экспедицией. Хаты деда и бабушки, помнишь, соседствуют, вот и приметила не совсем обычную подвалину в срубе. Брёвна дуба оставили как есть круглыми, под брус отесать бабушка не дала возражением: «Балюча будзе майму Прошеньке на тым свеце». А скоро Лида заявилась в кампании с замедиректора полоцкой фабрики художественных изделий — уговорили хозяйку хаты. Домкратами, подъёмным краном приподняли сруб, и дерево заменили железобетонными балками. Деньги были нужны — выживали, как могли. Операция возымела печальные последствия: сруб постепенно проседал и, в конце концов, порушился — по счастью в год, когда Голубицы совсем обезлюдили, и бабушки не стало.
Я ведь почему так углубился в описание бабушкиного дома. Напоминаю тебе. Ты в свои пять лет увлёкся рисованием, и начал, да и часто позже занимался, с набросков интерьеров и обстановки в хате. Наташа, ученица изостудии, на твой день рождения, с юлой от мамы, подарила планшет с листами «ватмана», карандаши и коробку с рисовальными палочками древесного угля. И показала, как рисовать с натуры — прямо в хате. Ты к мосту, играть в салки и лапту, не во всякий погожий день выходил — всё рисовал, да рисовал. Углём, да ладошкой «псавал» по мнению бабушки «высакародную паперу». И получалось у тебя по Наташиному заверению «здоровски». Призналась мне, что несколько раз твои наброски в изостудии выдала за свои, пятёрки заработала. Поступал в Белорусский Государственный театрально-художественный институт, кроме того что приёмную комиссию ошарашил своим внешним видом — предстал в синей блузе с жёлтым бантом на груди — ты развернул на столе листы «ватмана» с интерьерами, обстановкой и убранством бабушкиной хаты, нарисованные уже не углём, а сепией и акварелью. Натахе Света — перед тобой комиссию прошла — об том рассказала, а сестра мне. Прислала Светино фото — «красавица и комсомолка», сейчас таких не сыскать. Вот чего не женился.
* * *
Ещё и вечера то толком не наступило, а бабушка уложила тебя в постель, но уснуть не давала — боялась, крыша соломой крытая, загорится от молнии. Да и сам ты не засыпал, потому как тебя, карапуза, страх обуревал. Казалось, что вот отворится дверь из сенцев, и протопает по циновкам мимо печи к проходу в перегородке, высунет из-за ситцевой занавески свои три головы Змей Горыныч. Уплетая за столом кулеш, дядька Сашок смеялся и подначивал: «Слышу-слышу, как Горыныч у Лухмеевой хаты приземлился. Вон, как Дружок лает, заливается. Отгонит, к нам заявится».
А заявилась Мушка. Корова болела, потому переждать непогоду бабушка привела её из ветхого несгоревшего сарая в сени, оставила в чулане.
Напуганная громом, скотина метнулась к входной в хату двери. Лбом, сломав один рог, снесла дверное полотно (оно было непрочное, из сосновых реек и фанеры), споткнулась об порог, упала и, подняв рогом доски под циновками, исхудавшая, проскользнула между лагами, свалилась в подполье. Другим рогом проделала в дереве борозды — по рисункам, тем, что ты намазюкал печным углём по тёсу, а Наташа подписала: «Хата, баба Марфа, Сашок, Натаха, Мушка и я Васятка».
Трубно в подполье замычав, Мушка взбрыкнула и судорожно вытянулась.
Переполошенная, сокрушавшаяся бабушка: «А дзе ж цяпер узяць малака Васятке!», сбегала за соседским дедом Лухмеем, тот кувалдой оглушил и тут же прирезал Мушку немецким штыком — успел.
* * *
Сашок сгонял по деревне, просил помочь. Собрались бабушкины подруги, приковылял одноногий Нахимов с племянником Вованом.
Тушу подняли на струганные доски, обмыли и освежевали. После ты обходил стороной то место, под пол рисовать углём на лагах больше не спускался.
Управились к утру. Женщины, отведав, после принятой чарки самогонки, сваренного в чугуне мяса, ушли по домам прикорнуть до утренней дойки. Увели деда Лухмея, тот, назюзюкавшись самогонкой и бражкой догнавшись, охмелел изрядно. Всё норовил доказать Нахимову, что штык дометнёт насквозь через весь пятистенок и открытую дверь в сени, точно попадёт в «яблочко»: восьмое от пола бревно. На что Нахимов насмехался: «Снайпер на «газах», отдачей стёкла в окне у себя за спиной не вынеси. Божницу не порушь». Лухмей метнул, попал, но в шестое бревно. Дед на Нахимова обиделся и предупредил: «Марфину бражку ўсю скончыш, да мяне не заходзь — сваей не дам».
* * *
Расскажу ещё про деда Лухмея. Любил он тебя мальца, ты у него ненастными днями пропадал — помогал «саганы дзьмухаўцамі ўпрыгожыць».
Дед — личность занятная. В Голубицы с фронта ефрейтор Лухмей Аухарёнок вернулся с контузией в голову — слепым на один глаз и почти глухим на оба уха. Со временем слух и зрение восстановились, но в армию не призвали — ни здоровьем, ни возрастом уже не подходил. Оббивал порог военкомата, военкому устыл до чёртиков, пока под конвоем не был доставлен в Голубицы и высажен из полуторки у крыльца хаты с сержантским наказом не бередить души майору: «Пад самагубства падвядзеш». Лухмей и впал в запойную хандру. Сутками ничего себе из еды не готовил, исхудал до неузнаваемости — одни глаза мутно-голубые, длинный с курносинкой нос, выступавший из усов по бабским прикидкам «на паўметра», да на удивление патлатые волосы и борода без седины. Бабушка и сердобольные деревенские бабы навещали, готовили ему, первая жена из Полоцка наезжала, откармливала, обстирывала.
Оклемался, принялся чудить: как напьётся, лез с россказнями о своих подвигах на фронте. Слушали, но мало кто верил. Вот его самая известная «врака», какую он впаривал за столом под чарку. В оборот брал сидевшую под боком бабу или молодуху какую — из Белого, Заболотья и Котлов, те на Пасху и на «дзяды» приходили погостить к родне, в весну до летних в полях и в огороде хлопот. Начинал так:
— Слухай сюды…
И, опрокинув в себя стакан бражки, продолжал, исключительно по-русски:
— Я войну застал на воинских сборах, проходил подготовку техника-ремонтника в полку дальних бомбардировщиков. После как отогнали фашистов от Москвы, меня, хоть и староват был, переучили на лётчика-истребителя. На передовой служба не задалось: мазал по «мессерам». В одного вроде попал, но фриц дотянул до своего аэродрома. Корректировщики по рации командиру эскадрильи о том доложили, склоняясь к тому, что попадания, возможно, и не было, мотор забарахлил. За «не продуктивность в вылетах и аморальное поведение» — я в столовой официантку ущипнул — меня младшего лейтенанта разжаловали в рядовые и перевели в пехоту. Служить попал в понтонно-мостовой батальон, но ни разу ног не замочил, в наводке по реке понтонов не участвовал. Вот почему. Учитывая то, что я служил авиационным техником, меня было приставили к понтонам гайки крутить, но в первый же день назначение отменили. На вечерней поверке ротный старшина отвёл в сторонку и спросил: «Случаем, не гармонист?». Я соврал, что нет. «Ты у меня за ночь ротный сортир вылежишь. А пока марш к каптёру, фисгармонию всучит. Освой, трое суток на то тебе даю!», взвился старшина. Фисгармония немецкая, трофейная, осваивать мне её не было нужды, в авиационном училище такая же мне «поперёк жизни» встала: вечерами возили в Дом офицеров на танцах играть, а ночью того же дня в ресторан. Не высыпался, на клавиши давил до мозолей на кончиках пальцев. Через трое суток, послушав мою игру, старшина подал рапорт батальонному замполиту. Не каждый, конечно, вечер и не ночами снова я давил на клавиши: на танцы в расположение батальона — на передовой затишье было, мы к наступлению готовились — два вечера в неделю наведывалась молодёжь с недалеко отстоящего санитарного поезда. А так по службе день-деньской плотничал — лопатам черенки менял, топорам ручки.
Как-то после очередных танцев принёс фисгармонию к ротному складу, каптёр должен был поджидать, но на месте его не оказалось. Стоял, курил и услышал возню с шёпотом двоих внутри склада. В мужском голосе я узнал замполита, в женском — старшую медсестру. У них там что-то не получалось. Я успел спрятаться в запасной в окопе ячейке. Замполит из блиндажа вышел в одном исподнем с накинутой на плечи шинелью. «Боец, ко мне!», позвал. «Знаю, кто ты. На клавишу нажал. Рядовой Аухарёнок». Я вышел. «Дай прикурить… И вот что, про то что слышал и видел молчок, не уподобляйся сороке». На мою беду, слышали и видели каптёр с медсестричкой, они тискались в покрытой бойнице. По батальону поползли слухи с акцентом на то, что замполиту ублажить старшую медсестру не удалось. Любовники, конечно же, подумали на меня. Комбату был подан рапорт, в котором с отсылкой на то, что такие инциденты у рядового Лухмея Аухарёнка случались в его бытность «по месту прежнего прохождения воинской службы». Щипок за попу официантки офицерской столовой мне вышел боком.
Старшая медсестра настропалила нескольких медсестёр и те предъявили мне обвинение: «…мимо пройти не даст — ущипнёт — или того хуже, облапает». В общем, мне стараниями замполита в лучшем случае грозил перевод в пехотную часть, в окопы. Но комбат делу хода не дал. Вызвал к себе замполита и приказал впредь, после, как Аухарёнка уберёт из батальона, лично занять место плотника за починкой инструмента, и на танцах садиться за клавиши фисгармонии. Комбат наш из бывших царских офицеров инженерных войск, в дивизии славился выправкой и снисходительным отношением к подчинённым, любил блеснуть умением танцевать и галантным обращением с «дамами». Но не это только сподвигло его вступиться за меня. Днями раньше я подал ему рапорт, в котором предложил план организации диверсий в тылу противника — силами лично моими и батальонных разведчиков. Дело в том, что наши блиндажи обстреливали с противоположного берега реки немецкие танки, на участке батальона и пехотной роты, нашего берегового прикрытия, девять Т-3. Так вот, я ими занялся, расправлялся с «коробочками» очень даже продуктивно, три экипажа извёл. Ночами я с разведотделением вплавь под корягой преодолевал реку, на берегу забирался на дерево, сидел и ждал. К рассвету на свои позиции вдоль обрывистого берега выползала линейка танков с промежутком между машинами метров в сорок-пятьдесят. Тогда я, с дерева спустившись, скрытно подползал к ближней. Забирался на «коробочку» с кормы, и с первым выстрелом топориком оглушал командира танка — он из башни торчал, в бинокль цели высматривал. Опускал тело вовнутрь машины и крышку люка его командирской башенки закрывал, тут же обкладывал по броне скотчем. Скотчем заклеивал я башенный люк затем, чтоб танкистам не открыть. Случалось, лезли в люк с боку башни, тогда диверсия завершалась выстрелами из моего трофейного парабеллума, и бега перебежками к лежбищу разведчиков, готовых прикрыть мой отход к реке. Но чаще всего случалось, что немцы трухали в непонятках, сидели в танке. После выстрела у меня оставалось времени затраченного на перезарядку — это 13-15 секунд. Я осёдлывал орудийный ствол и полз по нему к дулу, в которое… опускал стеклянную бутылку из-под постного масла. По наклонному дулу — стреляли через реку навесом — она опускалась внутрь башни и в каморе орудия, до второго выстрела, разбивалась. «Бомба» — моего изобретения. Предложил комбату авторство разделить, но тот отказался и приказал начштаба всецело способствовать моим вылазкам. Что я делал. Я брал человеческий кал и мочу, вонючую лебеду и стухшую капусту со свёклой, перемешивал всё — в противогазе, конечно — и смесью этой заправлял бутылку. Недельку держал в тепле и на солнце. Представьте себе, что творилось в танке после как «бомба» срабатывала — бутылка вдребезги разбивалась. Фрицы даже не кричали, потому как нос и рот руками зажимали. Три экипажа так извёл. Штабной писарь шепнул, меня представили к награде орденом Славы второй степени, третьей я уже был награждён. Да вот на беду мою, той ночью, как об том узнал, меня приспичило сходить по-большому. Я поднялся, обулся в тапочки, в которых «коробочки» выводил из строя, и подался в сортир офицерский — ближе всех других нужников находился. Будка на два толчка, над одним я сидел, второй занял, кто бы ты думала… замполит. «Сиди боец, продолжай. Старшине передашь моё распоряжение наградить тебя тремя нарядами вне очереди», остановил мою попытку из будки убраться. Я боялся, узнает подполковник нарушителя устава. В будке темно, лунный свет проникал сквозь щели дощатой крыши, потому усмотрел на моей шее солдатский ремень, офицеры свой распускали, но оставался висеть вкруг талии на ремнях портупеи. «Кстати, о награждениях. Где наградные листы?», расстегнул, сев на корточки, замполит командирскую планшетку. «Наградной лист на старшего сержанта Комарова Петра Анисимовича… медалью «За отвагу»… На ефрейтора Абибулина Надзина… тоже «За отвагу»… Орденом Славы… Ш-шш-то! Лист на рядового Аухарёнка Лухмея Лухмеевича! Этой фисгармонии, этому жополизу, за что? Что такого геройского совершил?». Проясню, про мои вылазки с резведотделением, знали только комбат, начштаба, да старшина резведвзвода — держалось в секрете. Даже от замполита. Я встал с кортанов, подтянул галифе, подпоясался ремнём и вышел из будки, Не знаю, как он там на толкане поступил с моим наградлистом. Полагаю, подтёрся им: ордена я не получил. Комбат лично передавал ему на согласование эти самые листы, утром передал и уехал в штаб дивизии, по пути его «виллис» попал в засаду немецких парашютистов. Начштаба присвоил мне воинское звание ефрейтор, всё.
Браваду деду Лухмею обломал Нахимов. На свадебе в Котлах — деревня за Заболотьем — не одной из баб втирал, во всеуслышание всем за столом рассказал о своём подвиге. Нахимов, понятное дело — моряк-одессит с гитарой — был приглашён, на бахвальство деда среагировал обращением к женщинам:
— Бабы, а что ж вы не спросите у этого пуцера, тухисом за столом бомбардира, шлимазла с Привоза, поца и брехуна… что это за скотч такой. Скотч — это лента липкая американская, что-то вроде липучки в избе для отлова мух. Янки фрицев нам помогали бить. Эту клейкую ленту у нас никогда не производили, по ленд-лизу американцы может, и поставляли, не знаю. Но вряд ли ею снабжался какой-то там сапёрный батальон. Я-то о ней, почём знаю. Будучи подводником в лодке целлофаном со скотчем тренировался укрывать панели приборов — на случай течей в переборке. Не могло, уверяю вас, быть скотча в понтонно-мостовом батальоне. Так что, Бомбардир на «газах», ты даже не брехун, брехло последнее. И потом, подозрительно складно ты баешь, чётко, ясно излагаешь. Признайся, в госпитале тебе какой-нибудь корреспондент фронтовой газеты всю историю выдумал, и текст написал, который ты и заучил наизусть. Неспроста же на русском рассказываешь. Хотя… ты же учитель языков и литературы, мог сам сочинить. Бабы лабуду твою наизусть помнят, слово в слово могут пересказать. Из техников его в истребители выучили, надо же. Да тебя из-за возраста в лётчики не взяли бы. Поди, на аэродроме в свинарнике свиньям хвосты крутил, от них видать перенял привычку «газовать». Знаю, рассказали, на аккордеоне играешь, выучился в пединституте, своего личного не имел, в Белом клубный на танцах тягал. Но, «здрасьте вам», «не держите меня за фраера», для фисгармонии характерно спокойное монотонное звучание, танцы на ней играть, будь то в клубе или на фронтовой передовой — это мертвякам дать в обнимку потолкаться. Не было у тебя инструмента, в сапёрах, сидя на лаге босиком и по колено в воде, топориком махал, и понтоны ворочал за милу душу. Бабоньки, этот припоцованный удьёт ссыт вам в шьнифты бесстыдно, делает вам взуть по самое не балуйся. Лухмей, кончай мне этих штучек.
Нахимов с гитарой сидел с гармонистом на противоположном от молодых торце стола — чтобы разноголосица, гомон не мешали играть танцы. Гармонист уже был никакой, моряк ещё держался, хотя заметно было, Лухмею выказывал, как в бреду, струны пощипывая на обороте кузова.
Дед Лухмей промолчал, произнёс ни кому за столом непонятное: «Кишен мерен тухис» (поцелуй меня в задницу), дал, как из гаубицы, «газу» в лавку и опустил голову лицом в винегрет, уснул. После этого случая его звали не иначе как Брехуном, ещё и Бомбардиром Хмеем, с лёгкой руки Нахимова. Дед откликался на то и на то, не обижался. Но с прозорливым одесситом — Нахимовым — частенько пикировался, как напьётся бражки.
Мне байку деда пересказала моя тётка, жившая в Котлах. Байке верил, это сейчас понимаю, что врал старик, занятно, даже правдоподобно, но не учитывал нюансы: Танкам Т-3 незачем было стрелять по навесной, когда правый берег реки был выше берега левого, лупили прямой наводкой. Река — Днепр, шириной до 900 метров. Танки модификаций G — J вооружались пушкой 5 cm Kw.K. 38 L/42 калибра 50 мм, проползти по стволу раскалённому сразу после выстрела, во время перезарядки орудия — это дать «отморозиться» Лухмеевым «колоколцам». И потом, в дуло ствола диаметром в пять сантиметров ни одна стеклянная бутылка из-под растительного масла не пролезла бы. Врал дед, врал.
Всё же славным был человеком Лухмей Аухарёнок. Детворе мастерил маленькие таратайки, для зимы санки. Из дворовых собак запряжённых в санки способной тронуться с места и повезти, в деревне была только одна — Дружок деда, приблудная немецкая овчарка. Детишкам по очереди давал впрягать. А уж расписные лошадки-качалки с седлом на спине — малому детке покачаться — славой питались во всех окрестных сёлах, похлеще той бражки «Лухмеевой». С Полоцка даже приезжали приобрести — за «беленькую», которую дед чтил «асаблива». Бабам в мужицкой помощи по хозяйству не отказывал, сруб там какой под хлев или курятник поправить, забор поставить, колодец почистить — это завсегда. Платы за свои труды не брал, стакан «городской» только выпивал. Один. На предложение ещё выпить, вставал от стола и гордо заявлял: «Падзякую, але меру сваю я ведаючы. Не застолле якое святочнае». После чистки колодца выпивал, оказавшись даже от асабливой, ковш чистой холодной воды, принимал от женщины судок полный свежих яиц, собирал инструмент и убирался восвояси. Со временем в благодарность за доброту, способность оставаться мужиком свойским, звать Лухмея Брехуном и Бомбардиром Хмеем в Голубицах все перестали, даже Нахимов. А напивался, поворачивался к соседке за столом со словами: «Слухай сюды», деда тут же останавливали полным до краёв стаканом коньяка, на этот случай специально заготовленного Нахимовым. Залпом выпивал и укладывался спать в тарелку с винегретом.
В кончину свою — несчастный случай с ним приключился — пришедшим к нему в хату проститься признался:
— На фронте не был я, ни техником при самолётах, ни лётчиком-истребителем, ни сапёром-понтонёром, служил в дивизионной похоронной команде плотником, гробы и надгробья сбивал. Если и пришлось пострелять из винтовки, то холостыми на похоронах после прощальных слов замполита. В один такой обряд, не успели братскую могилу прикопать, налетел «мессер». Кругами утюжил, всю команду положил. Одному мне свезло, с первой же очередью ударился об железный обод колеса. Контузил меня не «мессер» — свои лошадки. Оглохший и ослепший лежал я под телегой и орал. Не от боли, нет — от ярости и неспособной своей поднять к плечу «мосинку», прицелиться… О патронах в ней холостых забыл… Не паминайце лихам, сыходжу. Айца Дзимитрыя адпяваць не кличце, атэист я…Ды и не ладзили мы... Ён ледзь было маю Алёнушку ня ахмурыу, ледзь пападдзёй не зрабиу... Добра, я з курсаў вярнуўся — паспеў… И да… «у вас вся спина белая». Помните, так шутил незабвенный Остап Ибрагимович Бендер, Остап-Сулейман-Берта-Мария Бендер-бей. Книгу «Двенадцать стульев» мне подарил в госпитале тот самый корреспондент, что мне байку сочинил. Помирая, мне завещал: «Лухмей Лухмеевич, оставляю тебе на память, книга в сундучке под кроватью… Прабачце, каго кали пакрыудзиу...
Упокоился дед Лухмей на день первое апреля.
Фразой Остапа Бендера «у вас вся спина белая» одессит Нахимов как-то за одним праздничным застольем пошутил над Авдотьей, думал, соригинальничал в деревне, но оказалось, шутка эта расхожа в Голубицах — а запустил её дед Лухмей. Каждое первое, одиннадцатое, двадцать первое и тридцать первое числа месяца в клубе читал вслух по главе про охоту за двенадцатью стульями. Сельчане, ожидавшие на скамьях приезда из Белого кинопередвижки, заслушивались — читал дед с выражением, голосом подражая Левитану. Бельский киномеханик, потерявший руку в финскую, брал с собой в кинопередвижку, возил по окрестным сёлам, где дед читал про Бендера перед началом сеанса.
Тебе как художнику известен киноштамп — пахота на коровах. В Голубицах почти не практиковали. Дед Лухмей из двух немецких мотоциклов смастерил что-то вроде самоходного плуга. Бельский председатель колхоза звал к себе в МТС, но отнекивался: «Ад магілкі маёй Алёнушки кроку ня ступлю, побач пахаваюць».
Так вот, умер дед в ночь на день первое апреля. И он бы не был Лухмеем — почитателем Остапа Бендера — если бы на похоронах душа его не учудила напоследок.
Прощались с покойником в клубе. В Голубицах принято усопшего оплакивать и отпевать в его хате, но Авдотья распорядилась обряд провести в клубе. В зале мальчишки сдвинули к стенам скамьи. Из Белого проститься с товарищем пришли мужики. Товарищи, да — но и собутыльники, да. Кто тогда из вернувшихся с войны не пил — фронтовые сто грамм сказывались. Так вот, мужики внесли гроб, установили на двух табуретках. Пионеры с поднятой рукой стояли по углам. Участковый милиционер Короткевич и кинооператор «передвижки» на баяне и губной гармошке играли что-то из траурных мелодий. Открыли дверь сельчанам. Проходили один за другим мимо гроба и усаживались по скамьям у стен. Бабы клали у ног покойника веточки ещё не распустившейся белоснежно-хмельной сирени, и куриные яйца в судках. Детвора рассаживалась на полу у ног родителей — в предвкушении на поминках отведать «подушечек», которыми в кульках их наделяла Авдотья. Нахимов стоял у гроба, скорбно положил свою ладонь на скрещённые длани друга.
И тут, вдруг…
— Тятя, покойник ожил? — спросил у отца мальчонка.
Отец Димитрий, хоть и не званным, всё же пришёл из Белого. Сидел со своей многодетной семьёй — ватагой из детей своих и приёмных — по лавкам у выхода из клуба. Пришёл одетым не в рясу, в цивильное. Сельчане его не узнавал.
— Упаси Господь такому случится. Нет, отрок, это последнее адью от нами уважаемого фронтовика Аухарёнка Лухмея Лухмеевича. В шутку. Привратник Пётр не сочтёт её за грех. У врат Господних упокоенного милостью Божию поджидает и в рай проведёт архангел Варахи¬ил. Сегодня первое апреля — день шутейный… Жена, всем детям оставаться сидеть по лавкам.
Дети отца Димитрия, было сорвались с мест вдогонку выбежавшей во двор гурьбе девчонок с жатыми носами, но попадья пресекла их рвение.
Вошла Авдотья, на пороге остановилась, дивясь оторопевшим бабским лицам. Потянула носом воздух, поморщилась. Со сцены, стоя под колхозным знаменем и флагом Белоруской ССР, за трибуной, заученно и дежурно произнесла прощальную речь по скончавшемуся фронтовику.
Авдотья, все в деревне знали, недолюбливала Лухмея, если не сказать, что ненавидела. Козней ему не строила, служебным положением не пользовалась, но все годы не могла снести обиды. В день возможного разрешения от бремени супруги Лухмей пошёл на разливавшуюся по весне Сойку ловить рыбу — на беду свою. Бельским барином было заведена обязанность мужьям с началом схваток у беременной жены вывешивать на крыше избы белую простыню, а деревенским повитухам это отслеживать, немедля спешить к роженице. Вот за то, что Лухмей этого не сделал, «рыбу удил, когда супруга помирала» Авдотья не приветила деда. Даже не здоровалась с бывшим зятем: не уберёг свою Алёнушку, её единственного ребёнка — дочь.
Нахимов, как стоял у гроба с рукой на руках покойника, так и простоял всю прощальную речь. А по распоряжению Авдотьи вынести тело, в похоронной процессии стал первым — нёс сложенную гимнастёрку с погонами ефрейтора, двумя солдатскими «Орденами Славы» и тремя медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За боевые заслуги». Сельчане долго не знали об этих наградах, дед ни кому их не показывал. На Борковской станции сходил с поезда, шинель, завидя на пероне его встречавшую Марфу, запахнул. И по приезде в Голубицы, в избе своей шинели не снимал, пока Марфа не попрощалась до утра и не ушла к себе домой. Впервой и единственный раз с орденами и медалями появился на свадьбе крестницы в Белом, фронтовички, в жёны взятой бравым майором-лётчиком с «иконостасом» на полгруди. Выпил только одну чарку за счастье молодых, больше ни-ни, стойка отказывал собутыльникам — чтобы не захмелеть и не обратиться к соседке по столу со словами: «Слухай сюды».
Хоть и со странностями был старик, однако светлая память о нём жива в Голубицах. Я ведь почему о нём тебе рассказал, Лухмей Аухарёнок «учудит» в моей судьбе, вместе с тем спасёт мне жизнь.
* * *
Но вернусь к рассказу о происшествии в бабушкиной хате.
После как ушли бабы, увели Деда Лухмея, в хате остались Нахимов, да его племянник Вован, ленинградский блокадник, Сашка погодок. Бывший морской пехотинец, ныне ветеран войны, инвалид, Нахимов — звеньевой у доярок, у бригадирши Авдотьи первый помощник на подхвате. После госпиталя он, севастопольский моряк, срочную отслуживший на подводной лодке, накануне войны сверхсрочник на миноносце Балтийского Флота, морской пехотинец, после ампутации ноги «бросил якорь» в белорусской деревушке. По словам тётки Авдотьи, его соблазнившей в примаки — был единственным на все Голубицы «трудоспособным, в якорях (смеялась) мужиком». Урождённый одессит, по натуре весельчак и балагур, любитель попеть под гитару, и выпить, конечно же, Нахимов по всей деревне был гостем званым, чаркой не обносили. Хотя, вечерами, завидя в окошко его, ковыляющего ко двору с гитарой за спиной, молодухи и бабы томились в тревожном ожидании: с чем в хату войдёт — с одесскими куплетами и анекдотами или страшным известием с фронта. Просьбам почтальонши — наведывала Голубицы из Бельской почты — разнести «похоронки» Нахимов не отказывал.
Первое чем себя в Голубицах проявил, переиначил имена: Сашу назвал Сашком; его мать Марфу — Веркой, по пьяне обзывал Стерлядью. Её внука Васю — тебя мальца-четырёхлетку — Васьком. Двоюродную сестру Сашка Наташу — Натахой, а её мать Лиду «окрестил» именем Лидок. Той нравилось. Она — вдова — возможно, и «клинья подбивала» бы к моряку, да боялась гнева Авдотьи. Веркиного соседа деда Лухмея кликал Бомбардиром Хмеем, с некоторых пор Брехуном. Оно понятно: «газов» в себе дед не держал, станцевать краковяк девицы в клубе его не приглашали. Вторым прозвищем окрестил за то, что «Бреше, як дихає». Своего племянника Вову нарёк Вованом. В деревне не знали действительно или нет малец ему племянник. Дед Лухмей выказал версию, что сын. Заверял, что знает одесских морячков, мол, «помёт» свой те повсюду оставляют. На вопрос так племянник или всё же сын Нахимову, Вован отмалчивался или отбрёхивался: «Детдомовский я. Может и племянник. Но не сын, отца своего, «сталинского сокола», я помню. Из-за него мама сгинула». Имя Авдотья переиначил в Аду, но называл её так только за глаза: бригадирша не приняла прозвища, да и ни кто в деревне.
За столом бабушка только пригубила самогонки, после наливала одному Нахимову. Мальчишки же пили — бегали в сени кружками из дежки зачерпнуть — квас на хлебных корках. Налегали на варёные в чугуне говяжьи мослы.
Захмелевший звеньевой ругал доярок, особо доставалось подругам Клавкам:
— Сидя спят, итиихумать, и тягают сиськи мимо ведра».
Незлобно ругал, но с угрозой:
— Я с этих стерлядей, не бросят бегать на танцы в Дом офицеров, сам стружку сгоню.
Стерлядью и бабушку обозвал — за то, что в стакан не до краёв налила. Сашок на то подхватился с лавки, бросил кость в чугун и выбежал во двор. За пуней на завалинке сидел, где с зимы покуривал тайком от матери махорку из кисета, утерянного дедом Лухмеем.
Вован, отложив ложку, в которую выбивал «мозг» из костей, потребовал:
— Дядь, пойдём, тётя Авдотья заругает.
— На посошок опрокину стаканчик и поплывём до дому к Аде, — пообещал и взъерошил Нахимов чуб племяннику. — Вот посмотри, Верка, на этот протез. Говно! Культяшку в кровь истираю, а мозоли обещали!.. Кончилась горелка, неси бражку. И бражки нет! Метнись к Лухмею. Ему скажи от Веркиной моряк отказался, потому как пойло. Веркина и твоя «лухмеевская» «две большие разницы» — на Привозе расценили бы так. В Одессе по ресторанам бы сбывал. Отольёт, как раз поспела.
Бабушка сославшись на то, что надо мясом заняться, да и спит поди Лухмей, батогами не подымешь, да и вообще «у пабягушкі ня наймалася», отказала бравому моряку из Одессы.
На удивление Нахимов не настаивал, буркнул только в усы:
— Стерлядь. Как есть торговка с Привоза, за прилавком от какой мансы только и ждёшь: «Наше вам».
* * *
Не согласившись сесть за стол, в рот не взяв ни кусочка мяса, принесённого тебе в постель бабушкой, ты уснул. Но скоро разбудил шум на кухонной половине: Нахимова поднимали, тот, заклевав носом, навернулся с лавки и угодил в подполье, распластался на дне ямы. «Деревяшкой» зацепился за лавку, и та отстегнулась, осталась под столом. Вытаскивали моряка, шумели, калека всех матом крыл.
На скамью усадили, к месту пристраивая «деревяшку», сказал:
— Ни как Васька разбудил. Верка, слышишь, скулит.
Напуганный, как оказалось вовсе не грохотом от падения звеьевог, ты звал бабушку. И вдруг, подхватился и встал в кровати на ноги. Глазки зажмурил, ручкой указывал на зеркало и дрожащими губками твердил:
— Горыныч! Там Змей Горыныч.
Бабушка успокаивала, прижала ротиком себе в шею и допытывалась:
— Васятка, дзетка, унучак, ды што здарылася? У люстэрку што угледзеу?
Всхлипывая, ты рассказал. В зеркале, висевшем на оклеенной газетами перегородке, отразилось в сполохе оконная рама без занавески, та единственная из семи в избе, что остеклили. А за стеклом — далеко за речкой Сойкой с бревенчатым мостом, на горе с взорванной в войну сыроварней — увидел Змея Горыныча. Летел по небу и сел под молниями в развалины.
Сашок уложил тебя под одеяло, сам прилёг с краю и успокаивал:
— Да не Горыныч то был, в грозу он не летает. Крылья у гада непромокаемые, как у твоего папаньки офицерский плащ, но боится в гром от молний загорятся. Крылья-то перепончатые, как у уток лапки. Засыпай, малёк.
Бабушка хлопотала у печи, Нахимов с Вованом и Сашком перебрались в горницу, сидели у окна. Протрезвевший звеньквой достал кисет и крутил из газетного клочка «козью ножку».
— Парашюты. Должно быть, учения идут… ночные. На Белое, на озёрную воду садятся. В Борках пополнение: к танковому десантный полк стал… Нас подводников на военных парадах в Ленинграде не показывали, рассаживали по трибунам рукоплескать выбросам парашютистов. Им я завидовал, особенно «сталинским соколам». Сказать по правде, трусил я с командой боцмана «Приготовиться к погружению». Капитан заметил — списал с подлодки в морские пехотинцы. На земле геройски сражался, да. В последнем своём бою под гусеницу фашистского танка противотанковую мину подложил, а отбегал, сам на пехотную наступил. В госпиталь, где ногу ампутировали и после вручили «красную звезду» с медалью «За отвагу», к награждению какой представлен был за геройство в предыдущем бою — взвод поднял в атаку — приходили детдомовцы. Стихи читали, пели, сценки разыгрывали. С ними — мальчонка Вовка, племянником признал… А слетайте, пацанва, на гору к руинам, поглядите с близи. Сдаётся, белеется там что-то, а скоро дояркам мимо на ферму идти. Напугаются бабы. Может, какой парашют ветром занесло. Васёк и принял за Горыныча.
— Да Аудоцци звернице, чатыры пачки соли хай дасць, — попросила бабушка. — Воука, не вяртайся, дзядзьку да дзеда Лухмея праганю. Пойти до дому нашего моряка в якорях ты не допросишься, когда знает, что брехун брагу намедни укрыл.
* * *
С зазывной к выгону коров песней пастушьего рожка, Сашок спать к тебе с бочка пристроился. Разбудил. Прижавшись щекой к дядиному плечу, ты спросил:
— Дрожишь?
— Нахимова к деду Лухмею под дождём волок, после бабушке помогал мясо по кадкам солить.
Шептались:
— Всё ещё веришь в то, что в развалины сел Горыныч?
— Я так подумал, а то был… Нахимов говорил… парашют.
— А парашютиста видел?
— Парашютиста? А кто он?
— Солдат под куполом парашюта.
— Не, один парашют. Чёрный. Страшный такой.
Сашок встал с кровати, вышел в сени. В печи подобрал уголёк, спрыгнул в подполье и вытер с тёса другой рисунок с заголовком от Вована: «Новая изба с бабой Марфой и каравай Мушкай».
— А шлёпай сюда, нарисуй… Трусишь?
— Нет. Зачем рисовать, вернись, покажу каким Горыныча увидел.
Я вернулся и ты указал пальчиком на юлу, сброшенную с подушки на пол в момент, когда напугался увиденным в окне.
— Как эта юла, только без ручки.
— Про парашют не знаешь, не видал, — рисовал Сашок углём по газете на перегородке. — Купол не чёрный, а белый. Небо за сыроварней закатное, без туч, вот потому и показался чёрным. Со стропами под куполом… такими вот. Парашютиста, говоришь, не заметил… — снова улёгся дядька на кровать. — Выходит, неправ Нахимов, не учения идут, не десантники Борковские прыгают с парашютами на Бельское озеро… Горыныч, Змей, то был. У-ууу.
— А говорил, в грозу не летает, — обидевшись, нырнул ты с головой под одеяло.
— С пятью головами, главный и страшный — тот летает. Приземлялся к тебе боком, потому крыльев во всю их ширь ты и не усмотрел.
— Голов пять? Разве? В книжке… сказка Пушкина… нарисован с тремя. Садился в руины, увидел я с тремя… Кажись.
— Крайние две Горыныч в себя втянул, как это делает твоя черепашка Геринг. Боится змей шеи об разбитые острые кирпичи поранить.
— А хвост? Не было хвоста.
— Ясно дело, поджал под себя… как Бомбардира пёс Дружок, когда трусит. На хвост Горыныч и сел.
— Знаешь, по честности сказать, увидел я одну голову. Не три, не пять.
— Если одноголовый, то не Змей, дракон. В наших краях не водится, в Китае, страна такая, их кишит.
— Ты с Вованом бегал, сидит?
— Ну, ты даёшь. Он же змей, нора у него там. Заполз, и нет с концами. Ищи, свищи... Ладно, вру я. Про Змея Горыныча сказки рассказываю, чтобы уснул поскорее. Тебе почудилось, в зеркале и не такое привидится. Спроси у тёток, мамок подружек Клавок. Папаньки и их братья, оженились, в Воркуту уехали на прииски, там и згинули. Вдовы их пристрастились к рождественским гаданьям на суженного. Клавок баламутят. Тебе, которая из них приглянулась?
Помнишь, обе подруги как объявлялись в бабушкиной хате, за щёчки тебя, карапуза, тягали, шутливо приговаривая: «Офицер, дайте закурить».
— По именам их путаю, обе на одно лицо, ни одна не нравится. Чего в них такого парни, и офицеры, как сами говорят, находят.
— Об этом и о суженном тебе, малёк, рано знать.
— Правда? Не обманываешь?
— Спи. Бабушка управилась, подполье, слышишь, досками закладывает, циновками накрывает. Без сна на ферму пойдёт. А мне не вставать к выгону: нет у нас теперь Мушки, молокосос.
— Дай юлу.
— Держи, — подал с пола дядька племяннику игрушку. — Про парашют чёрный, да без парашютиста под куполом забудь. Ни кому не рассказывай — засмеют.
И ты забыл. Но знаешь, сегодня достоверно известно, что в 30-40-вые годы Германия проводила интенсивные работы по созданию дискообразных летательных аппаратов с нетрадиционным способом создания подъёмной силы. Неспроста, должно быть, после войны в 50-тые годы юла была самой популярной детской игрушкой. Первые образцы делали штампованными из жести и раскрашенными красной или жёлтой по стыку двух половинок каймой — будто здесь огнями светится. А появились позже пластмассовые, те уже с явными фонарями и прожекторами делали, даже продавались модели с лампочками, горевшими от батарейки.
Конец первой части
(Продолжение следует)
Все права на эту публикацую принадлежат автору и охраняются законом.